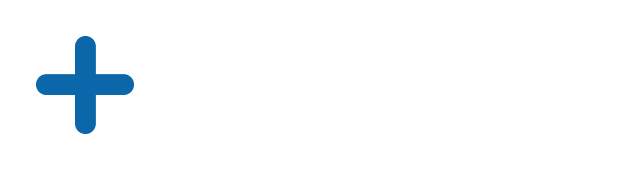Фёдор Достоевский 'Записки из подполья'
Нейросеть:
Глава 3***
Теперь, господа, восстановим мои заявления и восклицания. Повторяю, я не голословно признался вам, что мне не только не доставляло удовольствия быть благородным человеком, но и что в известные моменты я даже испытывал к благородству отвращение. Это факт, причем факт, так сказать, окончательный и бесповоротный. И это вовсе не означало, что я сознательно выборался из грязи на чистое место или хотя бы пытался пробираться через терновый путь к истине. Напротив, я скверно жил и, живя так, испытывал непередаваемую отраду. Эта отрада мной принималась за истину. Разве я искал покоя и спокойствия? Нет, я напротив, находил наслаждение в угрызениях совести, находил наслаждение в зле.
Ведь, господа, для того чтобы насладиться чувствами злобы, надо иметь противника. Начнем с того, что даже в литературе нашелся фиктивный враг. И этот враг — мой собственный двойник, плод моего тщеславия и гордости. Вот его я и бил непрестанно, изощряясь в упрямстве и злобе, и от этого чувствовал только наслаждение. Вообразите, что доходит до того, что я иногда даже преувеличивал свои пороки, свои дефекты, приукрашивал порочные поступки свои, лишь бы казаться более нужным борцом со злом.
Но, знаете, что смещалось за всех этих явлений и порывов? То, что я решительно не мог терпеть ни одного удара по самолюбию, что я отчаянно горячился, стоит кому-нибудь коснуться лишь края моей гордыни. Я был наигранным философом, позором, бесхитростной подделкой под разум. Более того, с этим смещалась своего рода гордость — высокомнение о своих оценках и убеждениях. Даже так, скажу: я сознательно уничтожал иллюзию собственного существования и этого находил свое наслаждение. Я каялся, расстраивался, лгал, путался, думая, что доблестно замещаю сам себя.
Занимались вы, господа, когда-нибудь самозамещением?
Наверное, это привлекательная теория — жизнь в двойственном свете, где напоказ выступает один человек, а в тени живет другой. Теневой образ живет в изысканном уединении, подвергает себя бессменно распаду и восстановлению, никогда не вынося свою сущность наружу. Мне кажутся интересными мысли об этом принуждении себя к виновностям, о сознательной и преднамеренной тяге к страданиям. Но удивительно и то, что, заключаясь в этой темной оболочке, я совершенно утратил способность говорить правду. Говорить просто и непосредственно не мог, говорил хитро, двусмысленно; старался пригодиться в каком-то глобальном смысле, но оставался отринутым. Именно в таких словах отыскивал столько удовлетворения! Ибо знал, что все истины, выведенные мной, на деле были лишь тщеславными подделками.
Рык любомудрия, господа, переходит во мне в визг гордости, а затем в стук клавиш напыщенной мелодрамы. Разве не в этом заключается истина? Не само ли лицо мое гордо возвышается над псевдофилософскими воззваниями? Наверное, вознесся я, как Икар, к небу своей гордыни, и в этом полете — единое положительное сознание моей жизни. На этой высоте распадалось все и санкционировались придирки, критика к самому себе, крушения надежд и неудачи.
Ах, господа! Высокий и низкий одновременно, бессмысленно доблестный и опороченный, как ларек с мусором, я созидал и разрушал жестокий двойственный мир, и неузнанным ни одним человеком оставался в подземном мире своих злосчастных наслаждений.
***
Продолжение следует..